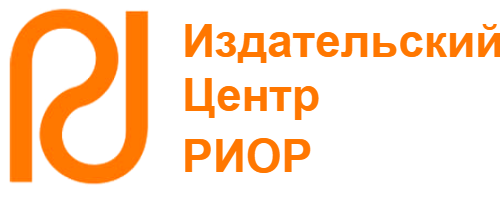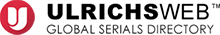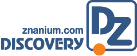from 01.09.2015 until now
Taganrog Institute of Management and Economics
from 01.09.1999 until now
Russian Federation
The article highlighted the structural elements of mental measurement processes and factors of legitimation of State authority in the domestic political and legal space. The focus is on the two alternative models of post-Soviet State-legal construction, both conservative and Liberal, which largely determines the logic of national statehood at the turn of the 20th-21st centuries. In this context, the author highlights the specificity of the legitimation of power institutions, identifies the basic parameters of its study, raises questions about the possible prospects for the modernization of the power relations in the context of Russian culture-civilizational identity.
state power, power distance, political space, political culture, legal mentality, conservatism, power relations.
В начале XXI в. становится очевидным вхождение мирового политико-правового пространства в новое качественное состояние. Граничащие с философским и околонаучным мифотворчеством идеи «конца истории», имеющие различную интерпретацию (политика Наполеона по формированию единого европейского имперского пространства и утверждение в нем буржуазных идеалов – у Г.В.Ф. Гегеля; феномен И.В. Сталина и Г. Форда – у А. Кожева; либерализма «рейгано-горбачевского» типа – у Ф. Фукуямы), но, по сути своей, утверждающие одно и то же – приоритет некоего универсального и наднационального политико-правового бытия над «своим», «локально-местечковым», этно-национальным государственно-правовым и духовным укладом, весьма активизировались и хотя, и стимулировали такую же активность своих антиподов не утратили своего рискогенного и конфликтогенного характера. Эскалация разного рода «цветных революций» в странах Азии и Африки, на постсоветском пространстве являются ярким тому подтверждением.
Можно утверждать, что к началу XXI столетия в западном, точнее, евро-антлантистском политическом дискурсе окончательно утвердилась антиномичная по своему содержанию стратегия создания наднационального и надгосударственного политико-правового пространства, однополярного и монокультурного мира. Хотя, в западной науке какой-либо общепринятой теории «наднациональности» и не существует, и вообще, можно ли сформировать новую «наднациональную евроамериканскую идентичность», разрушив национальную идентичность разных народов?
На этом фоне в российском политико-правовом поле современного образца вполне естественно образовалась (или вновь возродилась), в общем, привычная альтернатива политических и правовых идей, принципов, стратегий, модернизационных практик и т.п.: консерватизм, представленный евразийством, умеренным (или официальным, после 2000 г.) консерватизмом, консервативно-православным политическим направлением и др. против либерально-атлантистской модели модернизации всех сфер жизнедеятельности общества (от брака и семьи, до важнейших социально-экономических институтов), но прежде всего, конечно же, государственной (и шире – публичной) власти.
И в этой связи, уже недостаточно ставшего привычным у российских консерваторов простого апеллирования к особой в своем прочтении и развитии монархической доминанте в российском политическом мире и национальном менталитете, а значит, и к соответствующему опыту государственного строительства и «привычкам» элит и населения в целом, так .к.ак этого далеко не всегда «хватает» для выявления проблемных областей национальной политико-правовой культуры, системы властных отношений, определения возможных перспектив развития отечественной государственности в целом.
В этом плане, стремясь к научной строгости и методологической стройности политических и правовых исследований важно обратить внимание на следующие параметры: дистанция власти (специфика традиционного диалога между властью и обществом); традиционная для конкретного социума «боязнь неизвестности»; индивидуалистические и коллективистские начала в организации и функционировании власти; долгосрочная или краткосрочная ориентация в политической жизни страны. Их рассмотрение позволит оценить перспективы начатого еще в начале 90-х годов увлеченного копирования многих евроамериканских властных структур и институтов, особенно на предмет их соответствия национальным политическим интересам и задачам формирования адекватного им механизма государственной власти.
Понятие «дистанция власти» можно определить как степень, в которой не наделенные властью граждане страны допускают (понимают, чувствуют) и принимают то, что власть распределена несправедливо и проводит в жизнь решения, по большей части ущемляющие интересы ряда социальных слоев, выражаясь (материализуясь) в системе соответствующих социальных практик. Естественно, речь идет не об учредительной государственной власти, которая, по крайней мере, на уровне публичного дискурса (например, конституционного закрепления, разного рода деклараций, заявлений отдельных политиков, научных исследований соответствующей тематики и т.п.), действительно осуществляется народом, обществом, является «выражением и реализацией исключительного права народа на определение своей конституции, способом обеспечения легитимности фактически осуществляемой власти, обеспечения баланса общественно-политических сил и призванная решать судьбоносные для данного этапа развития государства вопросы, неотчуждаема от народа» [4, с. 61].
Более интересным представляется реконструкция истинного положения дел – скрытого дискурса властеотношений. И в этом плане вполне логично обращение к власти, осуществляемой так называемыми вторичными субъектами. В современной трактовке к разновидностям последней обычно относят законодательную, власть главы государства, исполнительную (правительственную) власть, судебную и контрольную власти. Именно в рамках данных находящихся в теснейшем взаимодействии компонентов по природе своей единой государственной власти движение в сторону реконструкции имеющих место и, как правило, не данных в качестве объекта непосредственного созерцания (деклараций), но, тем не менее, вполне ощущаемых хотя бы на уровне установок, интуиций, чувств, иных (нерационализируемых либо плохо рационализируемых, рефлектируемых и вербализируемых) проявлений обыденного опыта индивидов скрытых дискурсов-практик, неизбежно открывает взору добросовестного исследователя один из важнейших аспектов реального состояния государственной власти (сущности, способов осуществления и т.д.) – представления (оценки, суждения) самих подвластных о характерном для этого государства вообще, но, конечно, прежде всего, для актуального момента его развития, масштабе дистанцированности властных институтов, их действий и решений от насущных потребностей и законных интересов большинства населения страны.
Дистанция власти лишь отчасти фиксируется, отражается более привычной государствоведческой категорией – «легитимация». Так, В.Е. Чиркин отмечает, что «в отличие от легализации легитимация государственной власти опирается, прежде всего, не на внешние, в том числе юридические признаки… а на внутренние побудительные мотивы, внутренние стимулы. Легитимация связана с комплексом переживаний и внутренних установок людей. Нельзя навязывать легитимацию людям извне (хотя можно осуществить легализацию). Она создается преданностью людей данному общественному порядку (иногда – правящей личности), который по представлениям населения той или иной страны, в условиях конкретной исторической эпохи выражает непреложные ценности бытия» [3, с. 83].
«Дистанция власти» отнюдь не исчерпывается традиционным понятием легитимации. В данную проблемную область включаются еще и представления граждан о допустимом уровне социального (как формально-правового, так и фактического) неравенства, которое так или иначе «имеет место быть» в конкретном властном поле, и естественным образом сопряжены с характером и способом политического и правового мышления общества, содержанием национальной политико-правовой парадигмы. Конечно, социальное неравенство – это атрибут, неотъемлемое свойство любого общества, тем не менее, очевидно, что некоторые из них можно признать более неравноправными, чем другие (например, с европоцентристских позиций отношения «самурай – крестьянин» строились на абсолютном господстве первого над собственностью, свободой и самой жизнью второго, соответственно, и в плане их прав, «разрыв» был, несомненно, большим, чем между западноевропейским феодалом и зависимым крестьянином, однако эти разные по стилю политико-правового мышления социумы сохраняли стабильность и проявляли признаки устойчивого развития до тех пор, пока это неравенство соответствовало устоявшимся в национальной истории представлениям и народа, и элиты о допустимой дистанции властвующих над подвластными), и подобное положение дел неизменно находит (порой весьма специфическое) отражение в структурах правовой и политической ментальности.
Кроме этого, к проблеме дистанции власти некоторые современные авторы обращаются при изучении специфики традиционной (органичной содержанию основных структур российской политико-правовой ментальности) отечественной системы властных отношений. Например, в концепции Ю. Пивоварова и А. Фурсова центральное место занимает тезис о принципиальной дистанцированности власти от общества [1]. Легитимация власти в Русской Системе протекает за пределами общества, в трансценденции. Авторы (весьма поспешно) утверждают, что опирающаяся на «трансценденцию» (внешнюю силу) власть не нуждается в признании общества и якобы способна вообще обойтись без него. Власть получена извне (?) – от монгольского хана, от Бога, от «объективных законов общественного развития» и т.д. Ей нужны не граждане, а подданные, воспринимающие и реализующие ее интенции. В силу трансцендентальной природы власти ее основания и принципы не могут быть предметом переговоров, т.е. не являются собственно демократическими, обусловливая тем самым особенности правовых форм осуществления субъектами государственной власти своей деятельности. Дистанцируемая от общества власть выступает, таким образом, нерефликсируемым элементом национального (государственного) бытия. Политическим же субъектом в России оказывается, по мнению Ю. Пивоварова и А. Фурсова, только сама государственная власть – государство. Остальные «элементы общества» рассматриваются ими исключительно в качестве «реципиентов ее воздействия» (политических объектов). Более того, если власть выбирают, если ей реально делегируют полномочия, то она лишается дистанцированности, трансцендентальной природы, перестает быть Русской Властью, т.е. уже не отвечает политическим практикам, в течение многих столетий, начиная с появления концепции «Москва – Третий Рим (четвертому же не бывать)», действовавшим в стране.
При всей наукообразности и нарочитой строгости рассуждений ключевые элементы концепции «Русской Системы» достаточно плохо укладываются в контекст событий отечественной истории, оказываются проблематичными в социокультурном и правоментальном измерении.
Особое видение большинством ментальных адептов собственной национально-правовой среды отражается и в присущих им (устойчивых) представлениях о возможных событиях будущего, так называемой «боязни неизвестности» [5]. Последняя, очевидно, фиксирует слияние идей (рациональный слой) и ощущений (эмоционально-подсознательные компоненты), свойственных членам конкретного социума, относительно угрозы от неопределенной или до конца не известной, но в то же время ожидаемой ситуации. Западные исследователи (Инкельс, Левинсон, Хофстед) отмечают, что крайняя степень неизвестности создает невыносимую тревогу [7]. Поэтому в процессе саморазвития каждое общество ориентируется на различные способы преодоления этой тревоги: традиционные (развивающиеся) общности для этого чаще всего используют регулятивные и стабилизирующие функции национальных религий, современное общество, в основном, привлекают разнообразные юридические и политические технологии (наиболее элементарными из них являются юридические нормы, нормативно-правовые акты, которые выполняют регулятивную, охранительную и оценочную функции и тем самым хотя бы отчасти предотвращают неизвестность, вызванную непредсказуемым поведением других субъектов или организаций) .
Данный параметр однозначно индицируется в политической и правовой жизни страны: влияет на стремление к правопорядку, социальному согласию, справедливости и т.д. Так, граждане в обществах с сильной боязнью неизвестности «запрограммированны» на активность (политическую, религиозную, деловую), проявляют беспокойство, более склонны к различного рода авантюрам, индивидуализму, карьерности. Граждане в обществах со слабой боязнью неизвестности в большинстве своем ориентируются на социальную (политическую и правовую) пассивность, категорическое неприятие однообразия упорядоченности, скуки, стремление к переменам к «лучшему».
Индивидуализм (персоноцентризм) характерен для обществ со слабыми связями между индивидами. Предполагается, что каждый заботится только о себе и своей семье. Интересно заметил еще Фридрих А. Хайек: «Слово «индивидуализм» приобрело сегодня негативный оттенок и ассоциируется с эгоизмом и самовлюбленностью… индивидуализм, уходящий корнями в христианство и античную философию, впервые получил полное выражение в период Ренессанса и положил начало (в том числе и как черта характера западноевропейской общности – А.М.) той целостности, которую мы называем теперь западной цивилизацией» [2, с. 19].
Коллективизм (соборность), напротив, характерен для обществ, в которых люди с рождения и до смерти интегрированы в сильные, связанные группы, защищающие (опекающие) своих членов в обмен на их безусловную лояльность по отношению к корпоративным, коллективным, общинным и т.п. нормам, обычаям, традициям и ритуалам. Западные социологи отмечают, что индивидуализм, как правило, нарастает по мере улучшения национального благосостояния и усиление индивидуализма – это скорее следствие, а не причина экономического роста.
Однако ясно и другое: каждый социум, несомненно, имеет собственный предел «роста» индивидуализма, определяемый, прежде всего, глубинными ментальными структурами (стилем мышления, аксиомами национального сознания, типичными поведенческими установками и реакциями др.). Так, недавний рост благосостояния в азиатский странах во многом стимулировал некоторое усиление индивидуалистических начал и мотивов в обществе, однако это отнюдь не привело к формированию индивидуализма западного варианта, хотя ряд западноевропейских стран в конце ХХ в. находятся (по основным показателям) на том же уровне социально-экономического процветания [6].
В государственно-правовой сфере доминирование «ментальности индивидуализма» в обществе, несомненно, является предварительным условием, важнейшей предпосылкой становления и развития политической демократии, гражданского общества и правового государства в его классическом, евро-американском варианте. Базовый принцип «одно лицо – один голос» предполагает, что в западной правовой традиции (!) именно индивид (а не коллектив, социальная группа: община, народ и др.) является подлинным субъектом правовых отношений, носителем прав, свобод и обязанностей. Этот, на первый взгляд, отвлеченный принцип на самом деле является ключевым для юридической и политической практик, так .какопределяет содержание, формы и функции последних. Наверное, поэтому многие (весьма почитаемые) политико-правовые институты государств с ярко выраженной индивидуалистической ментальностью оказываются излишними, неэффективными, часто вообще неприемлемыми в странах с коллективистским менталитетом и, соответственно, коллективистскими же институтами (достаточно хотя бы вспомнить, как остро в настоящее время полемизируется проблема создания в России демократического государства «западного образца» со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Совсем недавно в специальной литературе, преимущественно в работах западных авторов, был определен четвертый параметр очевидных различий в национальных менталитетах – сложная антиномия «краткосрочной ориентации в жизни» и «долгосрочной ориентации» [8].
Многочисленные сравнительно-правовые, политологические и социологические исследования (данные по 23 странам) выявили, что восточноазиатские нации склонны к долгосрочной ориентации, к гиперперспективному планированию во всех сферах общественной жизни (хотя, прежде всего, это проявляется не в материально-технической и финансовой сферах, более других подверженных изменениям, «рыночным» падениям и взлетам, а в политико-правовой, религиозной и семейно-бытовой областях). Напротив, европейские или евроамериканские цивилизации показали способность к краткосрочному планированию, ожиданию всевозможных (положительных или негативных) перемен во многих социальных секторах. Такая позиция во многом коррелирует с философскими постулатами западного релятивизма, идущими еще от Протагора и Горгия, предполагает некоторую готовность к широкомасштабным социальным изменениям (положительным или отрицательным), определенную гибкость и толерантность.
Это отражение западного динамизма в сочетании со стремлением к политической и правовой стабильности общества и государства в противовес восточной стагнации, ориентиру на абсолют и незыблемые ценности, стремлению к «тысячелетним» империям, часто приводящим народы (особенно в ХХ в.) к острым экономическим, политическим, национально-этническим кризисам и правовому хаосу. Данный параметр, несомненно, совпадает с более известными в правовой и политической науках категориями, и прежде всего с такими, как «консерватизм», «реформизм», «адаптационность», «революционность», выражающими ценности, приоритеты, интересы большинства членов социума или элит в определенный (часто достаточно длительный) исторический период.
Ряд известных зарубежных политологов достаточно убедительно показали, что в 80-90-х годах представители стран, характеризующихся различным сочетанием отмеченных параметров, обнаруживают склонность выстраивать различные модели организации государственной власти и управления. Например, исследования студентов, проведенные Хофстедом и Бондом, изучение национальных элит, результаты которого достаточно полно отражены в работах М.Х. Хоппа, демонстрируют стремление респондентов из большинства стран романской группы правовых систем, а также из России, ряда латино-американских государств видеть организацию государства в виде пирамиды людей, наделенных властью и стремящихся, прежде всего, к максимальной упорядоченности общественных отношений во всех сферах социума, тогда как в германской группе организация государства и общества представляется в качестве «хорошо смазанной машины», функционирующей на основе четкой системы нормативных предписаний и не требующей постоянного применения власти и силы. На уровне аналогий представители англо-саксонской семьи чаще всего сравнивают политическую жизнь в целом и государственную власть в частности с рынком, стремятся к переносу частноправовой модели отношений на публичную сферу социально-правового взаимодействия, осуществляют свою деятельность на базе постоянных переговоров, в свою очередь формирующих соответствующие социальные практики, направленные на поиск компромисса в процессе многочисленных согласований общественных интересов, разрешение конфликтов между государством, обществом, личностью.
1. Pivovarov Y., Fursov A. «Russian system» as an attempt to understand Russian history. Policia [Polis], 2001, no 4. (In Russian)
2. Hayek F. A. Doroga k rabstvu [The road to slavery]. Moscow, 1992.
3. Chirkin V. E. Osnovi gosudarstvennoi vlasti [Foundations of State authority]. Moscow, 1996.
4. Shapsugs D. Teoria prava i gosudarstva [Theory of law and State:]. Rostov on-Don, 2001. P II.
5. Cyert R. M., March J. G. A Behavioural Theory of the Firm. Englewood Cliffs. New Jersey, 1963.
6. Ester P., Halman L., Moor R. The Individualizing Society: Value Change in Europe and North America. Tilburg, 1993.
7. Inkels A., Levinson D. J. National Characters: The Study of Modal Personality and Sociocultural Systems // The Handbook of Social Psychology. Massachusetts, 1969. Vol. 4.
8. Hoppe M. H. A Comparative Study of Country Elites // Unpublished Ph. D. Dissertation. University of North Carolina at Chapel Hill, 1990.