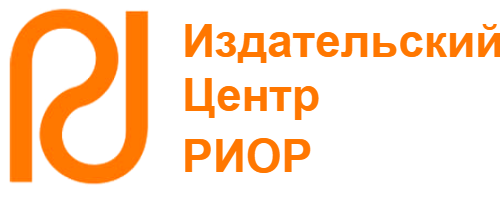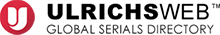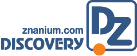с 01.01.2021 по 01.01.2025
Волгоградский государственный университет (Кафедра конституционного и муниципального права, Аспирант)
с 01.01.2020 по 01.01.2024
Волгоградская область, Россия
ВАК 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
ВАК 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
ВАК 12.00.10 Международное право; Европейское право
ВАК 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ВАК 12.00.14 Административное право; административный процесс
УДК 340.1 Виды и формы права. Направления в теории права
УДК 340.5 Сравнительное правоведение
ГРНТИ 10.07 Теория государства и права
ОКСО 40.03.01 Юриспруденция
ББК 670 Общая теория права
ББК 60 Общественные науки в целом
ТБК 7510 Теория права. Правоведение
BISAC LAW000000 General
Статья посвящена сравнительно-правовому анализу правоприменительной техники через призму специфики различных правовых семей. Рассматривая особенности подготовки правоприменительных актов, а также выполнения действий, предшествующих их принятию, на примере романо-германской, англо-американской и мусульманской правовых семей, автор исходит из гипотезы об отсутствии в мире обособленных типов юридической техники, и, вместе с тем – о преобладании отдельных технико-юридических аспектов в рамках различных типов правового регулирования. По итогам исследования обобщаются основные отличительные черты правоприменительной техники в рамках соответствующих правовых семей, а также формулируются некоторые проблемы для перспективной разработки юридико-технической компаративистики.
правоприменительный акт, правоприменение, юридическая техника, правоприменительная техника, сравнительное правоведение, правовая семья
Сравнительно-правовая проблематика юридической техники в значительной мере еще ожидает своей разработки, как в российской, так и в зарубежной правовой доктрине. Вместе с тем, в последние годы к ней проявляется все больший интерес, что является объективным следствием процессов правовой интеграции в современном мире, необходимости критической оценки зарубежного опыта правотворческой, правоприменительной, правоинтерпретационной деятельности, а в конечном счете – и определенными потребностями в технико-юридической унификации правовых систем [3, c. 81]. Не является в этой связи исключением и правоприменительная техника, комплексные компаративные исследования которой в настоящее время практически отсутствуют – при наличии ряда работ, обращающих внимание на отдельные аспекты, характеризующие ее специфику в различных правовых семьях. Изложенное обуславливает значительный научный интерес в обращении к указанным вопросам. При этом, исключительно широкий характер предметного поля исследования обуславливает необходимость его исходной конкретизации в отношении трех правовых семей: романо-германской, англо-американской и мусульманской – что обусловлено как сравнительно высокой степенью развития в их рамках технико-юридических средств на фоне выраженных различий в определении их приоритетности и особенностях применении, так и определенной внутренней неоднородностью соответствующих моделей, подчеркнутой на фоне динамики правового развития.
Романо-германская традиция юридической техники отличается приоритетом правотворческой техники и технологий, что обусловлено спецификой системы источников права, сформированной исходно под влиянием римского права. Вместе с тем, следует отметить определенную неоднородность в рамках данной – самой обширной в мире – правовой семьи. Так, в группе скандинавского права (часто выделяемой компаративистами в качестве отдельной правовой системы, с учетом отсутствия значимого влияния римского права и т.д.) иной баланс технико-юридических средств обусловлен особой ролью суда, не сводящейся к сугубо правоприменительной; своеобразием баланса правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной техники также характеризуется право государств Латинской Америки (возможности его позиционирования в качестве отдельной системы дискуссионно обсуждаются в последние десятилетия). Существуют и исключения из общих тенденций на уровне отдельных государств – так, например, в Казахстане решения высших судебных органов (Верховного Суда и квазисудебного Конституционного Совета) признаются полноценными источниками права, в ряде иных государств речь может идти о различных вариантах формального и/или фактического признания таковыми постановлений высших судов (особенно в последние десятилетия).
В целом, правоприменительная техника в романо-германской правовой системе преимущественно связана с определенной общностью содержательных, формальных (реквизитных), логических, процедурных, структурных, языковых правил, характеризующих подготовку и принятие правоприменительных актов (степень которой относительно выше в сравнении с иными правовыми системами). При этом, дифференциация правотворчества и правоприменения как в функциональном, так и в содержательном, и в технико-юридическом смысле, предопределяет поиск оптимального баланса между «волей законодателя» и дискрецией правоприменителя (подобная проблематизация не характерна для иных рассматриваемых правовых семей). Вместе с тем, ситуация не остается неизменной: с течением времени соответствующий баланс постепенно смещается в направлении определенного расширения дискреционных начал: например, в теоретическом плане этому способствовали утверждение нормативистской концепции дуалистической законности (не только законности-соответствия, но и законности-совместимости) [7, с. 131 – 132], развитие «континентальных версий» (особенно французской) правового реализма [8, p. 89]., и, в целом – признание субъектности юридической интерпретации [9, p. 1535]; в практическом – почти повсеместное принятие со второй половины ХХ в. тех или иных моделей конституционного правосудия).
Особенности правоприменительной техники в англо-американской правовой семье обусловлены, прежде всего, специфичной ролью судебных органов и их прецедентной практики на фоне отсутствия кодификации законодательства и казуистичного регулирования, а также приоритетом концепции «законодательной техники». Последнее, в сравнении с «континентальной» концепцией юридической техники, означает выраженный акцент на процессуальных, в том числе технологических, аспектах правотворчества и правоприменения (например, в американской юриспруденции превалирует понимание соответствующей техники как способа решения споров и согласования конфликтующих интересов). Определенная общность правоприменительной техники для рассматриваемой системы обуславливается и тем, что во многих государствах-членах Британского Содружества (в особенности, в Карибском регионе) суды высших инстанций созданы сравнительно недавно либо сохраняется, хотя и все реже используемая, возможность обращения с жалобами в английские высшие суды. Важной особенностью для практики некоторых государств англо-американской системы является также традиция мотивировки судебных актов со ссылкой на положения правовой доктрины.
В порядке обобщения следует заметить, что англо-американская правовая система, в сравнении с романо-германской, отличается большей степенью различий национальных практик (и даже внутринациональных – например, в американском случае), что имеет выражение и в сфере правоприменительной техники (показательны, например, уже упомянутые стилевые особенности подготовки судебных актов для Англии и алгоритмизации правоприменительных технологий в США, различие «удельного веса» законодательства и прецедентов (как судебных, так и административных) в правовой системе и т.д.). Вместе с тем, характерными в целом для государств рассматриваемой правовой семьи является повышенная конкретизация в отдельных вопросах правоприменительной техники, отсутствие четких граней между техникой правоинтерпретации и правореализации [4, c. 108 – 109], а также содержательное структурирование прецедента [6, c. 187 – 188].
Мусульманская правовая система в технико-юридическом аспекте отличается, прежде всего, смешением с правовыми нормами религиозных положений, а также казуистичностью регулирования, в связи с чем традиционно первоочередной выступает роль интерпретационной техники и технологий (и, соответственно – богословов-правоведов, при отсутствии профессии юриста в привычном иным рассматриваемым системам смысле слова). В сравнительно-правовых исследованиях подчеркивается недопустимость проведения аналогии между мусульманским правом и каноническим правом средневековой Европы (имевшими определенные точки соприкосновения, прежде всего – на Пиренейском полуострове): отличия между данными системами приобрели выраженный характер уже с XIII века. При этом, в разрезе практики разрешения споров в современных судах в странах мусульманской правовой системы, использование теологической доктрины преобладает над задействованием нормативных актов и прецедентов {2, c. 205]. Использование инструментария юридической техники в рамках данной правовой семьи существенно отличается от иных, прежде всего – в языковом плане (отсутствие отдельного юридического языка, использование богословского), а также в структурном (отсутствие четкой, единообразной структурности правоприменительных документов) отношении. В то же время, в качестве сходства с другими рассматриваемыми правовыми семьями можно выделить определенную близость основных содержательных и логических технико-юридических правил, а также концепции толкования-уяснения (в разрезе цели, необходимости – хотя и трактуемых более узко, предшествия толкованию-разъяснению (уяснение, при этом, осуществляется не всегда)).
Несмотря на приведенные общие положения, степень внутрисистемной неоднородности национальных правовых порядков в мусульманской правовой семье подчас выступает достаточно существенной, что обусловлено наличием ряда направлений в исламе, чье влияние в некоторых случаях ограничено преимущественно национальными рамками (помимо более известных различий суннитских и шиитских течений ислама, показателен, например, ибадизм в случае Омана). Характерна в этой связи и система источников мусульманского права, элементами которой, наряду с Кораном и сунной (для стран суннитского ислама) выступают иджма (догмат), кияс (аналогия), акль (разум), адат и урф (обычай), таклид (подражание), иджтихад (интерпретация), ар-рай (мнение), истихсан (предпочтение). В свою очередь, как и в случае иных правовых систем, границы мусульманского права исторически подвижны, что обусловлено модернизационными процессами в ряде государств Средиземноморья и Юго-Западной Азии в последнее столетие; вместе с тем, и в последние десятилетия встречается ряд примеров (хотя и различных по своему контексту), когда светское право вновь вытесняется мусульманским (Иран, Афганистан; в фактическом отношении – отдельные части некоторых исламских стран с выраженным регионализмом).
Проведенный анализ общих и особенных аспектов в правоприменительной технике в различных правовых семьях позволяет подтвердить правомерность высказываемой рядом ученых, как отечественных (например, М.Л. Давыдова, О.В. Колесник [5, c. 11].), так и зарубежных (в частности, Ш.Н. Бердияров [1, c. 131], позиции об отсутствии в современном мире неких обособленных типов юридической техники, и, вместе с тем – о преобладании отдельных технико-юридических аспектов, дифференциации подходов к применения технико-юридического инструментария в рамках различных типов правового регулирования. Стоит сказать, что данный тезис вполне применим и к традиционной правовой семье, а также гибридным правовым системам, конкретное рассмотрение особенностей которых осталось за рамками настоящего исследования. Кроме того, на основе приведенных примеров видится важным подчеркнуть наличие тенденций к определенной унификации различных правовых систем, что проявляется не только в разрезе развития теоретической мысли или балансе тех или иных источников права, но и в сфере юридической (в том числе – и правоприменительной) техники.
1. Бердияров Ш.Н. Зарубежный опыт применения юридической техники в правовой деятельности // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. №. 33. С. 127 – 131.
2. Вайно А.А. Юридическая техника в мусульманском праве // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2. С. 204 – 215.
3. Давыдова М.Л. Сравнительная юридическая техника как перспективное направление инструментально-правовых и компаративистских исследований // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. № 3 (19). С. 73 – 83.
4. Давыдова М.Л. Сравнительная юридическая техника: размышления о возможности и необходимости существования в культурном пространстве России // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 104 – 111.
5. Колесник И.В. Теоретическая модель правоприменительной технологии: дисс… докт. юрид. наук. – М., 2014. – 437 с.
6. Малиновский А.А. Юридическая техника в зарубежных правовых семьях (взгляд компаративиста) // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 179 – 190.
7. Слеженков В.В. Теоретическая модель судебного правотворчества в контексте современного французского правового реализма // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2014. № 1 (22). С. 130 – 134.
8. Debard M. Michel Troper: miroir de Hans Kelsen. – Publication de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 2015. – 104 p.
9. Monateri P.G. Form and Substance in Comparative Law and Legal Interpretation // International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique/ 2024. № 37(5). P. 1533 – 1556.