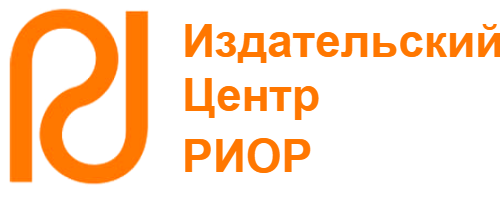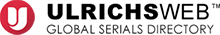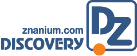с 01.01.2024 по 01.01.2025
Россия
ВАК 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
ВАК 12.00.10 Международное право; Европейское право
ВАК 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ВАК 12.00.14 Административное право; административный процесс
УДК 34 Право. Юридические науки
ГРНТИ 10.07 Теория государства и права
ББК 60 Общественные науки в целом
В статье анализируются особенности проявления доверия как правового феномена в сфере здравоохранения. Констатации положительного влияния доверия на общественные отношения совершенно недостаточно для раскрытия функционального потенциала данного феномена, практическая польза его изучения скрыта в рассмотрении инструментальных свойств. Затронутая проблематика рассматривается автором в моделях «пациент-врач», «пациент-государство», «врач-государство».
Доверие, доверие к праву, здравоохранение, медицина, безопасность
Введение. Доверие как сопутствующий элемент эффективного социального взаимодействия привлекает внимание современных исследователей. Не нуждается в доказательствах желательность его присутствия для конструктивного сотрудничества в социуме, но простого обозначения положительных аспектов влияния доверия на общественные отношения совершенно недостаточно для раскрытия функционального потенциала данного феномена. В рассмотрении инструментальных свойств доверия скрыта практическая польза его изучения.
Проведенные ранее исследования доверия как правового феномена позволили обозначить общие закономерности его функционирования в правовом пространстве. Для последующего теоретического анализа представляется желательным рассмотрение особенностей функционального проявления доверия в многообразии урегулированных правом сферах человеческой активности, в частности, в области здравоохранения. Для более системного представления о затронутой проблематике рассмотрим проявления доверия в моделях «пациент-врач», «пациент-государство», «врач-государство».
Пациент-врач. Начать рассмотрение проблемы доверия в сфере здравоохранения стоит с модели «пациент-врач», поскольку именно в ней наличие (отсутствие) изучаемого феномена наиболее значимо для эффективности медицинской деятельности; взаимодействие врача и пациента предполагает более многогранное проявление доверия по сравнению с моделями «пациент-государство», «врач-государство».
Процесс лечения сопряжен с различными переживаниями пациента, повышенная степень которых способна деструктивно повлиять на его ход и результат [4]. Доверие пациента к врачу относится к числу факторов, сопутствующих успеху лечения. Оно имеет различные формы проявления: психологическую (эмоциональную), формализованную, делегированную, которые рассматриваются нами в отдельности лишь для формирования более системного представления об исследуемом феномене. В сфере реализации права на медицинскую помощь данные формы находятся в непосредственной взаимосвязи.
- Психологическая (эмоциональная) форма проявления доверия выражена в положительном отношении к личности, которое формируется под воздействием различных факторов рационального и иррационального свойства.
К числу рациональных факторов относятся:
- сведения об уровне образования специалиста;
- репутация врача;
- репутация лечебного учреждения;
- эффективность коммуникации со специалистом и др.
Иррациональными факторами выступают:
- интуитивные убеждения в способности специалиста качественно оказать медицинскую услугу;
- элемент сакральности в восприятии профессии врача;
- мотивационные побуждения, связанные с эффективностью действия рекламы специалиста и (или) медицинского учреждения и др.
На сегодняшний день формирование доверия к врачу реализуется, в том числе, с применением информационных технологий. Многие специалисты активно ведут профессиональные учетные записи в социальных сетях, позиционируя себя как компетентного специалиста. Проблематично проверить достоверность представленной в данных источниках информации. Отношение к врачу, сформированное таким образом, имеет иррациональную природу и в большей степени соотносится с категориями наивности, доверчивости.
Также достаточно распространены сайты, отражающие оценку деятельности врача пациентами [8], позволяющие составить изначальное представление о компетентности и качестве работы специалиста. Не исключены случаи «фабрикования» положительных отзывов, однако данные методы далеко не всегда позволяют достичь желаемого результата. Страницы, содержащие большое количество искусственно созданных положительных отзывов, имеют также немало негативных оценок. Внимательно изучающий и анализирующий информацию пациент вполне способен усмотреть контрастность в представленных мнениях и сделать выводы о возможных причинах подобного различия. В сравнении с предыдущим примером данная информация в большей степени репрезентативна и является элементом репутационной характеристики специалиста.
По мере развития общественных отношений и повышения общего уровня грамотности населения наблюдается тенденция к десакрализация образа врача. Однако говорить о том, что рациональные основания для доверия стали преобладать, нельзя, поскольку качественно продуманная рекламная кампания зачастую оказывается более эффективной в формировании доверия, чем совокупность рациональных оснований. Усиливает данную тенденцию применение в рекламных роликах элементов нейролингвистического программирования, ориентированных на усиление чувственно-эмоционального восприятия на фоне понижения рациональной аналитической деятельности. Подобные приемы манипулятивного свойства направлены на формирование доверчивости, в основе которого убеждение в колоссальных возможностях специалиста и необходимости обращения именно к нему. О действенности рекламной кампании свидетельствует сформированная в обществе установка о том, что лечение в частных клиниках более эффективно, чем в государственных. При этом коммерческая основа лечения не является гарантией его качества.
Стоит также упомянуть о феномене обманутых ожиданий, возникновение которых является закономерным следствием производства обозначенных манипуляций. Эти ожидания представляются законными, поскольку возникают в связи с прямым или косвенным обещанием качественного оказания услуг и являются основанием для вступления в правоотношение. А.Г. Репьев отмечает, что «законное ожидание как компонент общерегулятивных правоотношений представляет собой специфическое правовое состояние, заключающееся в аналитическом представлении о прогнозируемом правовом последствии, обусловленном правовыми обещаниями и сформировавшемся под воздействием совокупности объективных условий жизнедеятельности»[6; c.51]. Увеличение частоты случаев, когда ожидания пациентов оказываются неоправданными, обусловливает необходимость совершенствования правового регулирования в данной сфере. С одной стороны, правовое регулирование должно позволять в полной мере обеспечивать интересы пациента в случае неисполнения законных ожиданий, а, с другой стороны, – служить основанием для самоограничения врача от медицинского вмешательства в тех случаях, когда ему заранее известно о том, что желаемых результатов пациент не получит. К проявлению самоограничения также можно отнести уведомление пациента в письменном виде о том, что в полной мере достичь желаемого результата не получится. В большей степени, подобные меры необходимо реализовать в пластической хирургии и косметологии, поскольку в этих сферах чаще всего ожидания пациентов оказываются неоправданными. Их наличие, во-первых, станет дополнительным основанием для доверия пациента к врачу, во-вторых, будет способствовать повышению качества оказания медицинских услуг. Стоит также предусмотреть дополнительные механизмы защиты врача от необоснованных обвинений со стороны пациента в обманутых законных ожиданиях.
Повышение степени бюрократизма и формализма в медицинской деятельности на фоне тенденции к технократизации медицинского взаимодействия являются причинами уменьшения времени непосредственного взаимодействия с пациентом на этапе диагностики. Недостаток личного общения со специалистом и следующее из этого непонимание пациентом интересующих его аспектов лечения служит фактором, снижающим доверие к врачу, который в большей степени воспринимается как оператор, производящий определенные шаблонные действия [14]. Сложившаяся ситуация во взаимодействии врача и пациента рассматривается учеными как «увядание» доверия, являющееся следствием широкого доступа к медицинской информации из Интернета, в репрезентативности которой основная часть населения сомневается крайне редко [7].
- Формализованная форма доверия предполагает его демонстрацию (отражение) в юридических документах (заявление, согласие) или юридически значимых действиях. Сама по себе формализация - тенденция, наблюдающаяся во многих сферах человеческой активности, в том числе в медицине. Во многом развитию обозначенной тенденции способствует трансформация медицинской практики от патерналистской модели взаимоотношений между пациентом и врачом к модели совместного принятия решений [7]. С одной стороны, это показатель снижения доверия в отношениях пациента и врача, недостаток которого восполняется контролем, правилами и другими формальными мерами [3]. С другой стороны, определенный перечень формальных документов и действий могут выступать основаниями для возникновения и применения гарантий и обеспечительных мер, то есть служить рациональными факторами формирования доверия.
- Делегированная форма доверия состоит в выражении доверия врачу в связи с наличием сформированного доверия к иным субъектам или системам, правовым гарантиям, презумпциям. Делегированная форма доверия также проявляется, когда врач выступает в качестве посредника между пациентом и системой. К примеру, когда речь идет об использовании сервиса искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Данный подход обладает потенциалом, способным фундаментально изменить методы медицинской практики. Платформы ИИ превосходны в распознавании сложных закономерностей в медицинских данных и обеспечивают количественную, а не только качественную оценку клинических состояний. Доверие к результатам диагностики связано с убежденностью в эффективности работы ИИ, то есть направлено оно не на врача, а на систему. Делегированная форма доверия в большей мере связана с системно-заданными ожиданиями. В данном случае доверие к врачу вторично, оно выражается в убеждении о способности специалиста к правильной интерпретации полученных результатов и грамотному выбору подхода к лечению.
Пациент-государство. В модели «пациент-государство» доверие к системе здравоохранения с одной стороны связано со степенью эффективностью действия гарантий и обеспечительных мер, а также способностью государства поддержать их действенность в условиях чрезвычайных ситуаций. Институализация социального взаимодействия в сфере здравоохранения обусловливает значимость правовых принципов, норм, презумпций для формирования доверия к государству.
Отражение в правовых предписаниях и обеспечение принципов конфиденциальности, информированного согласия, равенства и доступа к здравоохранению, медицинской ответственности, биоэтики, защиты здоровья общества, медицинской исследовательской этики и т.д. создает в общественном сознании установку об ориентированности государства на обеспечение здоровья населения, выполнении государством его социальной функции.
Презумпции - типичная правовая форма доверия. Примерами презумпций в медицинском праве являются презумпции соблюдения врачебной тайны, согласия на раскрытие причины смерти и т.д. В данном случае, доверие выражается праву и государству - оно первично; доверие к врачу - следствие сформированного доверия к праву и государству и убежденности, что презюмируемые модели будут реализованы в правоотношениях. Аналогично доверие проявляется под воздействием гарантий и обеспечительных мер, которые также, как и презумпции, выступают рациональными основаниями доверия.
Способность государства организовать эффективную работу системы здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций является фактором формирования доверия к нему. К примеру, пандемия COVID-19 стала очень серьезным испытанием для многих государств. Степень эффективности работы государства по обеспечению условий для выявления и лечения данного заболевания, а также вакцинации стала фактором, влияющим на доверие государству в целом. По данным исследования, где рассматривалась ситуация в 177 странах, более высокий уровень доверия к национальному правительству тесно связан с более низкими показателями инфицирования COVID-19, а среди стран со средним и более высоким уровнем дохода, где доступность вакцины была более широкой, также коррелирует с более высокими показателями вакцинации против COVID-19 [2].
По мнению специалистов в сфере здравоохранения, искусственный интеллект существенно изменит медицинскую практику, что обусловлено современными достижениями, когда системы ИИ могут успешно выполнять различные клинические задачи: обнаружение диабетической ретинопатии по изображениям, прогнозирование повторной госпитализации, содействие в открытии новых лекарств и т.д. [13]. Внедрение ИИ в медицинскую практику предполагает серьезное внимание к данному вопросу со стороны государства в аспектах регламентации, определения субъектного состава лиц, ответственных за эффективность работы систем ИИ, обеспечение необходимых гарантий для пациента и врача. Детерминация обозначенных моментов будет являться рациональным основанием доверия к государству, врачу, системе здравоохранения в целом.
Врач-государство. Формирование доверия в модели «врач-государство» сопряжено с качеством обеспечения безопасности врачей, условий труда, а также со степенью учёта духовно-ценностной составляющей данной деятельности.
Обеспечение безопасности врачей при исполнении служебных обязанностей – важная задача государства. Вместе с тем, нападения пациентов, их родственников и иных лиц на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей – распространенная в нашем государстве тенденция, о чем свидетельствуют статистические данные и сводки новостей [1]. Данная проблема распространена и в зарубежных государствах, к примеру, в Италии ежегодные опросы свидетельствуют о большом количестве фактов применения насилия пациентами в отношении работников скорой медицинской помощи [12]. В Китае медицинские работники также указывают на наличие регулярных случаев насилия со стороны пациентов [11]. В связи с необходимостью обеспечения безопасных условий труда медицинских работников многие страны ужесточили наказания за нападение на медиков при выполнении ими трудовых обязанностей. К примеру, в Великобритании Национальной службой здравоохранения утверждены новые правила приема пациентов, направленные на защиту врачей от оскорблений и насилия. Медицинские работники имеют право отказать в приеме пациентам, не нуждающимся в экстренной медицинской помощи, если они угрожают, оскорбляют или проявляют физическое насилие по отношению к ним [10].
Вопрос обеспечения безопасности врачей и медицинских работников требует реагирования со стороны законодателя. В частности, представляется целесообразным установление особого правового статуса медицинского работника, позволяющего в определенных случаях и пределах применять физическую силу и специальные средства (средства личной защиты) для обеспечения личной безопасности. Особый правовой статус врача должен предполагать повышенную ответственность граждан за нападение на него. Кроме того, следует вести профилактическую работу с населением, направленную на формирование установки о недопустимости рассматриваемых проявлений.
Обеспечение условий труда как фактор доверия к государству выражается в следующем:
- обеспечении достойного уровня материального обеспечения;
- поддержании оптимального сочетания режима труда и отдыха;
- организации комфортного рабочего пространства;
- предоставлении возможностей для повышения квалификации и карьерного роста;
- обеспечение лечебных учреждений необходимыми медикаментами и оборудованием;
- повышения престижа профессии врачей в обществе.
Учет государством духовно-ценностной составляющей медицинской деятельности – важный фактор доверия государству со стороны врачей. Информацию об альтруизме, присущем представителям данной профессии, достижениях современной медицины, эффективности деятельности врачей в специальных условиях необходимо регулярно освещать в средствах массовой информации. В то же время важно развивать систему поощрений, стимулирующую врачей к профессиональному совершенствованию, научной, просветительской деятельности (что крайне важно в контексте передачи опыта).
Заключение. Таким образом, на основании рассмотрения особенностей проявления феномена доверия в сфере здравоохранения, можно сделать следующие обобщения:
- Доверие в сфере здравоохранения представляет собой основанное на совокупности рациональных и иррациональных факторов высоковероятностное полагание относительно результата взаимодействия в конкретном правоотношении.
- Направленность интересов участников общественных отношений в моделях «пациент-врач», «пациент-государство», «врач-государство» детерминирует специфику факторов проявления доверия в них.
- По мере развития, усложнения и дифференциации общественных отношений наблюдается повышение значимости рациональных (в том числе формализованных) оснований доверия пациента к врачу.
- Внедрение ИИ в сферу здравоохранения трансформирует направленность доверия пациента к врачу в доверие пациента к системе. Основаниями доверия выступают системно-заданные ожидания. Врач рассматривается в качестве посредника между пациентом и системой, доверие к нему вторично.
- Способность обеспечить качественную работу системы здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций – важный фактор доверия к государству. Эффективность функционирования данной системы в сложных, зачастую непредвиденных условиях является демонстрацией реализации государством его социальной функции и способности устранять факторы, осложняющие жизнедеятельность общества.
- Закрепление специального правового статуса врачей - мера, необходимая, в первую очередь, для обеспечения их безопасности при выполнении служебных обязанностей. В то же время данное преобразование будет способствовать повышению престижа врачебной деятельности и формированию в общественном сознании установки о недопустимости применения насилия в отношении медицинских работников.
1. Басова А.В., Власова М.В., Барашков Г.М. Защита медицинских работников от нападения: проблемы конституционного обеспечения // Вестник КГУ. 2021. №2. С. 164-169.
2. Блендон Р. Дж., Бенсон Дж. М. Доверие к медицине, системе здравоохранения и общественному здравоохранению //Дедал. 2022. Т. 151. №. 4. С. 67-82.
3. Вольфенсбергер М., Ригли А. Доверие к медицине. Издательство Кембриджского университета. 2019.
4. Дурново Е.А., Чекарева И.И., Грехов А.В., Кочубейник А.В., Корсакова А.И. Доверительные отношения между пациентом и врачом как залог успешного лечения осложнений дентальной имплантации // Наука молодых ученых. 2022. №1. С. 91-100.
5. Поиск лучших врачей // Электронный ресурс. Режим доступа:URL:https://doctu.ru/
6. Репьев А.Г. Правовые обещания и законные ожидания как компоненты модели общерегулятивных правоотношений // Вестник СГЮА. 2023. №1 (150). С. 51. С. 41 - 53.
7. Рэй А., Патха-Рэй В. Увядающее доверие: переосмысление отношений между врачом и пациентом // Индийский журнал офтальмологии. 2018. Т. 66. №11. С.1529-1530.
8. Сайт отзывов о врачах №1 в России // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://prodoctorov.ru/
9. Сигалов К.Е. Среда права: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. М., 2010. 54 с.
10. Сотрудники Национальной службы здравоохранения могут отказаться лечить пациентов, склонных к расизму или сексизму // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://news.sky.com/story/nhs-staff-can-refuse-to-treat-racist-or-sexist-patients-under-new-rules-11937175
11. Тан Н. и Луиза Э. Томсон. Перечень наиболее распространенных видов медицинского лечения в Китае: влияние медицинского вмешательства на психологическое лечение болезни. Общественное здравоохранение. 2019. Т. 16. № 19. С. 3687.
12. Тауэр М., Сестили Ф., Тауэр Дж. Фиораванти Сопутствующее насилие как причина стресса с связанных с ним расстройств у медицинских работников отделений неотложной помощи. Каннаво М. Клиника. 2019. Т. 170. С. 110-123.
13. Хатерли Дж. Дж. Пределы доверия к медицинскому ИИ // Журнал медицинской этики. 2020. Т. 46. №. 7. С. 478-481.
14. Хьюн и др. Природа клинической онкологии. 2020. Т. 17. №. 12. С. 771-781.